Братская гэс. Энциклопедия литературных произведений
У нас 1965 год в проекте «Сто лет — сто книг», и мы докатились до поэмы Евгения Евтушенко «Братская ГЭС». Я думаю, что произведения более оклеветанного и более нарицательного в советской поэзии нет. Достаточно вспомнить легендарную пародию «Панибратская ГЭС», абсолютно точную, это из ранних текстов Александра Иванова, тогда еще очень ядовитого. Но нельзя не признать, что все плохое, что сказано об этой поэме — оно, в общем, верно. А хорошего в ней удивительно мало, но то хорошее, то немногое хорошее, что есть, оно, в конечном итоге, перевешивает.
Почему перевешивает? Это вот тот редкий случай, когда произведение само по себе со своими пороками красноречивее того, что хотел сказать автор. Автор, конечно, не вкладывал в нее такого смысла, не взглядывал на историю с такой высоты. И вообще Евтушенко хотел сказать другое, а получился симптом, получился знак эпохи.
Начнем с того, эта мысль довольно сложная, но тем не менее мы за 65 лекций привыкли друг к другу и легко говорим о сложных вещах. А начнем с того, что поэма — это вообще жанр ретардации, жанр отступления, перестроения, паузы. Эта мысль впервые высказана Львом Аннинским, мысль достаточно глубокая, потому что лирика — это такие маленькие летучие отряды, работающие на передовых рубежах. Поэма — это, в общем, скорее жанр капитуляции, потому что лирическое усилие исчерпывается, и начинается то, что стиху вредит — повествование. Вот советская повествовательная поэзия, советский роман в стихах — это, братцы, конечно, кошмар.
Страшно представить великого Антокольского, который сочинял свою, значит, натужную эпическую поэму «В переулке за Арбатом», которую он сам ненавидел. Ну, Пастернак мучился с поэмой «Зарево», с попыткой написать роман в стихах о конце войны. И, кстати, первая глава у него получилась, но дальше дело не пошло. А сколько было этих романов в стихах, сейчас не вспомнишь. «Добровольцы» Долматовского, даже у Анатолия Сафронова был роман в стихах «В глубь времени», который невозможно вспомнить без судорог.
В общем, повествовательный жанр — он поэзии сильно вредит. Для того, чтобы написать роман в стихах, как Пушкин писал «Онегина», нужно все-таки иметь мысль или, по крайней мере, героя перед глазами. А советская поэзия занималась таким пережевыванием, перекладыванием прозы в занудные соцреалистические суконные стихи.
И вот тут в 60-е годы появляется принципиально новая концепция поэмы. «Братская ГЭС» в известном смысле была такой попыткой возродить поэму 20-х годов, поэму, ну скажем, Маяковского «Хорошо».
Надо сказать, что «Хорошо» — это довольно серьезный вклад Маяковского в жанровую специфику, попытка выстроить новую поэму. Там нет сквозного сюжета. «Хорошо» — это, в сущности, цикл стихов, цикл личных воспоминаний автора о десятилетии 1917-1927. Попытка выцепить какие-то главные эпизоды первого советского десятилетия, ретроспектива. Это не сюжетная поэма, это именно лирический цикл, в котором есть единое настроение. И настроение это вовсе не «хорошо», ведь «хорошо», как мы знаем из этой же поэмы, — это последние слова Блока, которые Маяковский от него слышал. И в этом «хорошо», говорит он, слилась и сожженная библиотека, и эти костры перед Зимним. То есть это благословение, но благословение умирающего.
Вот «Братская ГЭС» — это набор картинок из русской жизни, из русской истории. Для Евтушенко вершиной этой истории в 1965 году является Братская ГЭС. Значит, довольно натужна главная идея поэмы, которая, естественно, ко второй примерно ее половине, а поэма огромная, там страниц 150, она примерно ко второй ее половине начинает выдыхаться и перестает быть сколько-нибудь интересной.
Это диалог Братской ГЭС и египетской пирамиды, вы не поверите. Значит, египетская пирамида — это масштабное сооружение древних, памятник древнему величию, она на все смотрит с крайним скепсисом, она устарела, она не верит в то, что может получиться коммунистический эксперимент.
Братская ГЭС — это наш ответ египетской пирамиде. Это наш бессмертный памятник, памятник именно братству, памятник свободе. И неслучайно там как раз есть такая глава про учительницу Элькину, учительку, которая приехала, значит, учить селян, потом она красноармейцев учит, пытается им что-то вдолбить, и один из них там выдохнул мучительно перед смертью: «Мы не рабы, учителька, рабы не мы». Вот такой же памятник свободе — это Братская ГЭС.
Евтушенко, я думаю, конечно, забавно было бы с ним сейчас поговорить, — это первый живой автор, которого мы анализируем вот в этом цикле, и он уже, конечно, отчасти тоже сам памятник эпохи. И забавно было бы Евгения Александровича спросить как-нибудь на досуге, понимал ли он, насколько самоубийственна эта метафора, насколько он, в общем, опустил Братскую ГЭС, сделав ее такой своего рода египетской пирамидой зрелого социализма. Это ясно же совершенно, что Братская ГЭС — это столь же мертвое железобетонное сооружение, как и египетская пирамида и, в общем, такой же памятник мертвому режиму. Она, конечно, продолжает себе работать, продолжает давать толк, но того братства, в честь которого она поставлена, больше нет. И города Братска в его прежнем виде больше нет. А есть нищий далекий сибирский город, где давно уже смеются над этой поэмой и над этой мифологией.
Но тем не менее вот этот диалог, он уходит потом как-то с первого плана, и на первый выступают те главные персонажи, которых Евтушенко видит в российской истории. Вот удивительно здесь то, что первая глава, зачин поэмы: «За тридцать мне, мне страшно по ночам» — вот здесь есть какая-то определенная точность.
Я вообще Евтушенко очень люблю, должен я с горечью сказать. С горечью — потому что этот человек очень часто эту любовь обманывает и пишет вещи, которые этой любви совершенно не достойны. Но вот какая интересная, понимаете, вышла штука. Сейчас, значит, эта «Таинственная страсть» когда прогремела по экранам, прокатилась, все стали читать стихи 60-х годов. Ну и оказалось, что большая часть этих стихов никуда не годится. Уцелел Вознесенский, мы о нем говорили только что, в огромной степени уцелел благодаря своей вот этой радости разрушения, очень русской радости при виде того, что что-нибудь горит или рушится, и начинается новое.
И уцелел Евтушенко, вот это странное дело. Евтушенко, которого столько упрекали в пошлости, в отсутствии вкуса, но у него есть две вещи, которых нет больше ни у кого в такой степени: он абсолютно честен, он все время говорит о себе и говорит о себе правду. Да, он кокетлив, иногда он кокетничает, конечно. Да, он не говорит о себе последней самой горькой правды. Но он, по крайней мере, искренен, и он умеет признаваться в поражении. «Как стыдно одному ходить в кинотеатры» — это фраза, которую не каждый про себя скажет, такой замечательный тоже символ одиночества и любовного поражения. И у него много любовных стихов, продиктованных настоящей злобой, настоящей ревностью и абсолютной честностью.
И вторая вещь, которая Евтушенко выделяет среди многих, — он мыслит. Вот его поэзия — это поэзия все-таки ума. И такие стихи, как «Монолог голубого песца», который я искренне считаю гениальным, невероятно точным, более сильного, более точного стихотворения о советской интеллигенции не написал никто. «Кто меня кормит — тот меня убьет» — вот это прекрасные слова о песце, который сбежал из клетки и не может без клетки.
Это гениальные стихи, как раз об этом ему Катаев сказал: «Женя, перестаньте писать стихи, радующие нашу либеральную интеллигенцию. Начните писать стихи, радующие начальство, или я не поручусь за вашу будущность». Но тем не менее, Евтушенко, надо отдать ему должное, не пошел по этому пути. Он продолжал писать стихи, радующие во многом все-таки либеральную интеллигенцию, потому что он говорил правду.
И вот эта мысль, опыт мыслей и искренности, он, надо сказать, в «Братской ГЭС» есть. Там есть несколько фрагментов удивительно точных. Там есть попытка спасти ленинизм, это глава про ходоков «Идут ходоки к Ленину», довольно, по-моему, наивная даже для этой вещи. Там есть чрезвычайно наивные революционные главы, «Жарки», например. И там есть много попыток фальшивого умиления перед трудовым пафосом, описание этой свадьбы, среди которой вдруг там на плотине тревога, и все бегут срочно ее исправлять.
Но, конечно, с одной стороны, самая фальшивая, а с другой стороны, самая прорывная там глава — это, конечно, «Нюрка», глава про бетонщицу Нюрку. Конечно, сегодня она выглядит смешно. «Чуть вибратор на миг положу, ничего я как будто не вешу, оттолкнусь от земли, полечу». Ну кто ж думал, что вибратор будет для советского, постсоветского человека означать совсем не то. Тогда это такой вот прибор, с помощью которого строится бетонная конструкция.
Но дело не только в этих смешных и совершенно, в общем, неважных эпизодах. Дело в том, что «Нюрка» — это такой довольно точный психологический анализ. Там что происходит? Эта Нюрка забеременела. Ее, естественно, обрюхатил инженер, интеллигентный человек, потому что все гадости совершаются интеллигентными людьми, и секса хотят только они. А потом он ей, значит, отказался признавать ребенка. Он сказал: «Я, конечно, был первым, но ведь кто-то мог быть и вторым», это щемящим анапестом написана вещь. И вот эта Нюрка, значит, решила броситься с плотины. И когда она поднялась на эту плотину с намерением броситься оттуда, она увидела широкую панораму стройки, и эта панорама произвела на нее такое впечатление, что она передумала кончать собой и решила вырастить советского гражданина.
Значит, знаете, на самом деле не так это глупо. И я скажу почему. Дело в том, что все-таки в советской мифологии и в советской культуре был один очень важный посыл: если у тебя ничего не получается, как у человека — в личной жизни, в карьере, в любви, неважно, у тебя есть утешение — ты участвуешь в великом деле. И в этом смысле «Нюрка» — это прорывный текст. Потому что, посмотрите, огромное количество фильмов этого времени, начиная с «Иркутской истории», экранизации арбузовской пьесы, и кончая комедиями вроде «Карьера Димы Горина» или «Девчата», они несут очень простую мысль: если в личной жизни ты всегда неудачник, потому что любовь кончается, потому что все смертные, в конце концов, но у тебя есть дело, масштабное величественное дело. И благодаря этому делу ты уже не просто «я простая бетонщица Нюрка», а ты уже кирпич в огромной величественной стене, ты участник великого проекта. Это психологически срабатывает, то есть я понимаю, что это наивно, но это срабатывает.
Вот точно так же, понимаете, возьмите чулюкинский, а Чулюкин — хороший режиссер, его фильм «Девчата», удивительно откровенный, где есть вот эта недотепа бедная, которую играет Надя Румянцева, и есть влюбленный в нее Рыбников, а девочка она глупая до чистоты, она не понимает, как люди целуются, им же носы должны мешать. Но на фоне вот этих периодически возникающих сибирский пейзажей, гигантских просек, великих гор и снегов возникает какое-то ощущение причастности к великому, не так все плохо, да мы, оказывается, строим тут будущее. И поэтому в «Братской ГЭС» вот все эти эпизоды, посвященные ее строительству, они, конечно, звучат большим отступлением для крупного поэта-лирика, который вдруг начал воспевать социалистическое строительство.
Но, с другой стороны, это же в известном смысле выход из всех лирических противоречий, потому что что позволяет нам преодолеть частный страх смерти, что позволяет нам преодолеть вот этот идиотизм нашего эгоизма, нашего страха, нашей оглядки на начальство, что нам позволяет перерасти себя — только великое общее дело. Это толстовская мысль, кстати говоря, вполне работающая и у Евтушенко. И поэтому «Братская ГЭС» — это, с одной стороны, как многие тогда шутили, братская могила. Безусловно, братская могила персонажей, культурных цитат, великих намерений самого Евтушенко. С другой — это очень недурной символ Советского Союза как такового.
Ведь Советский Союз строили люди, в основном, с неудавшейся, с трагической личной жизнью. Можно понять, почему Лариса Рейснер, любовница Гумилева и возлюбленная Троцкого, почему она с таким отчаянием бросается в коммунистический проект, вот эта девушка русского декаданса. Да потому что весь декаданс построен на мысли о недостаточности частной жизни. И поэтому «Братская ГЭС» — это довольно достойный венец вечного спора о смысле, который эта египетская пирамида и ведет. Пирамида говорит: «Все бессмысленно, все смертны». Нет, ничего подобного. И «Братская ГЭС» со своим идиотским пафосом общего труда, как ни странно, какой-то действительно свежий взгляд и несет.
Там есть неплохие очень исторические главы, там есть очень приличные личные какие-то зарисовки. Там нет финала, потому что его и не может быть. Там есть такой уход в общий фальшивый пафос, но из всех поэм 60-х годов, вот удивительное дело, «Братская ГЭС» жива. Живы две больших поэмы Евтушенко — «Братская ГЭС» и «Казанский университет», потому что дальше он писал же сам: «Как в Братской ГЭС Россия мне открылась в тебе, Казанский университет». И вот сейчас эпилог «Казанского университета» звучит очень величественно: «Люблю тебя, Отечество мое, не только за частушки и природу — за пушкинскую тайную свободу, за сокровенных рыцарей ее, за вечный пугачевский дух в народе, за доблестный гражданский русский стих, за твоего Ульянова Володю, за будущих Ульяновых твоих».
В 1970 году сказать «за будущих Ульяновых твоих», да еще и написать главу «Да стена, да ткни — гнилая, ткни — развалится она» — вот эти слова и заставили Каверина на лыжной прогулке спросить Евтушенко: «Женечка, у нас власть поменялась?». Вот как он, действительно, умудрился это написать? Ведь в 1965 году воспеть русскую революцию в «Братской ГЭС», а в 1970-м воспеть Володю Ульянова как разрушителя гнилых стен — значит довольно точно чувствовать эпоху.
Остальные поэмы 60-х, скажем, «Письмо в 30-й век» Рождественского или поэмы большинства молодых авторов, которые подражали этим, они были, как правило, категорически неудачными. Даже «Осы» Вознесенского — довольно неровная вещь. А вот «Братская ГЭС» при всех своих шероховатостях, пошлостях и глупостях сохранила важную мысль — важную веру в то, что общее дело может искупить личную драму. Поэтому когда я сегодня перечитываю эту вещь, я думаю: многому и здесь суждено возвращение, когда мы опять будем пытаться в России что-то строить, а не только эксплуатировать построенное, свежий и чистый пафос этого сочинения может нас многому научить.
Ну а в следующий раз поговорим о переломном 1966 годе.
Евгений Евтушенко
МОЛИТВА ПЕРЕД ПОЭМОЙ
МОНОЛОГ ЕГИПЕТСКОЙ ПИРАМИДЫ
ПЕСНЯ НАДСМОТРЩИКОВ
ПЕСНЯ РАБОВ
МОНОЛОГ БРАТСКОЙ ГЭС
КАЗНЬ СТЕНЬКИ РАЗИНА
ДЕКАБРИСТЫ
ПЕТРАШЕВЦЫ
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
ЯРМАРКА В СИМБИРСКЕ
ИДУТ ХОДОКИ К ЛЕНИНУ
АЗБУКА РЕВОЛЮЦИИ
БЕТОН СОЦИАЛИЗМА
КОММУНАРЫ НЕ БУДУТ РАБАМИ
ПРИЗРАКИ В ТАЙГЕ
ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН
БОЛЬШЕВИК
ДИСПЕТЧЕР СВЕТА
НЕ УМИРАЙ, ИВАН СТЕПАНЫЧ
ТЕНИ НАШИХ ЛЮБИМЫХ
МАЯКОВСКИЙ
БАЛ ВЫПУСКНИКОВ
В МИНУТУ СЛАБОСТИ
НОЧЬ ПОЭЗИИ
Евгений Евтушенко
БРАТСКАЯ ГЭС
Поэма
МОЛИТВА ПЕРЕД ПОЭМОЙ
Поэт в России - больше чем поэт.
В ней суждено поэтами рождаться
лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства,
кому уюта нет, покоя нет.
Поэт в ней - образ века своего
и будущего призрачный прообраз.
Поэт подводит, не впадая в робость,
итог всему, что было до него.
Сумею ли? Культуры не хватает...
Нахватанность пророчеств не сулит...
Но дух России надо мной витает
и дерзновенно пробовать велит.
И, на колени тихо становясь,
готовый и для смерти и победы,
прошу смиренно помощи у вас,
великие российские поэты...
Дай, Пушкин, мне свою певучесть,
свою раскованную речь,
свою пленительную участь -
как бы шаля, глаголом жечь.
Дай, Лермонтов, свой желчный взгляд,
своей презрительности яд
и келью замкнутой души,
где дышит, скрытая в тиши,
недоброты твоей сестра -
лампада тайного добра.
Дай, Некрасов, уняв мою резвость,
боль иссеченной музы твоей -
у парадных подъездов, у рельсов
и в просторах лесов и полей.
Дай твоей неизящности силу.
Дай мне подвиг мучительный твой,
чтоб идти, волоча всю Россию,
как бурлаки идут бечевой.
О, дай мне, Блок, туманность вещую
и два кренящихся крыла,
чтобы, тая загадку вечную,
сквозь тело музыка текла.
Дай, Пастернак, смещенье дней,
смущенье веток,
сращенье запахов, теней
с мученьем века,
чтоб слово, садом бормоча,
цвело и зрело,
чтобы вовек твоя свеча
во мне горела.
Есенин, дай на счастье нежность мне
к березкам и лугам, к зверью и людям
и ко всему другому на земле,
что мы с тобой так беззащитно любим
Дай, Маяковский, мне
глыбастость,
непримиримость грозную к подонкам,
чтоб смог и я,
сквозь время прорубаясь,
сказать о нем
товарищам потомкам.
ПРОЛОГ
За тридцать мне. Мне страшно по ночам.
Я простыню коленями горбачу,
лицо топлю в подушке, стыдно плачу,
что жизнь растратил я по мелочам,
а утром снова так же ее трачу.
Когда б вы знали, критики мои,
чья доброта безвинно под вопросом,
как ласковы разносные статьи
в сравненье с моим собственным разносом,
вам стало б легче, если в поздний час
несправедливо мучит совесть вас.
Перебирая все мои стихи,
я вижу: безрассудно разбазарясь,
понамарал я столько чепухи...
а не сожжешь: по свету разбежалась.
Соперники мои,
отбросим лесть
и ругани обманчивую честь.
Размыслим-ка над судьбами своими.
У нас у всех одна и та же есть
болезнь души.
Поверхностность ей имя.
Поверхностность, ты хуже слепоты.
Ты можешь видеть, но не хочешь видеть.
Быть может, от безграмотности ты?
А может, от боязни корни выдрать
деревьев, под которыми росла,
не посадив на смену ни кола?!
И мы не потому ли так спешим,
снимая внешний слой лишь на полметра,
что, мужество забыв, себя страшим
самой задачей - вникнуть в суть предмета?
Спешим... Давая лишь полуответ,
поверхностность несем, как сокровенья,
не из расчета хладного, - нет, нет! -
а из инстинкта самосохраненья.
Затем приходит угасанье сил
и неспособность на полет, на битвы,
и перьями домашних наших крыл
подушки подлецов уже набиты...
Метался я... Швыряло взад-вперед
меня от чьих-то всхлипов или стонов
то в надувную бесполезность од,
то в ложную полезность фельетонов.
Кого-то оттирал всю жизнь плечом,
а это был я сам. Я в страсти пылкой,
наивно топоча, сражался шпилькой,
где следовало действовать мечом.
Преступно инфантилен был мой пыл.
Безжалостности полной не хватало,
а значит, полной жалости...
как среднее из воска и металла
и этим свою молодость губил.
Пусть каждый входит в жизнь под сим обетом:
помочь тому, что долженствует цвесть,
и отомстить, не позабыв об этом,
всему тому, что заслужило месть!
Боязнью мести мы не отомстим.
Сама возможность мести убывает,
и самосохранения инстинкт
не сохраняет нас, а убивает.
Поверхностность - убийца, а не друг,
здоровьем притворившийся недуг,
опутавший сетями обольщений...
На частности разменивая дух,
мы в сторону бежим от обобщений.
Теряет силы шар земной в пустом,
оставив обобщенья на потом.
А может быть, его незащищенность
и есть людских судеб необобщенность
в прозренье века, четком и простом?!
Я ехал по России вместе с Галей,
куда-то к морю в «Москвиче» спеша
от всех печалей...
Осень русских далей
пообок золотела все усталей,
листами под покрышками шурша,
и отдыхала за рулем душа.
Дыша степным, березовым, соснистым,
в меня швырнув немыслимый массив,
на скорости за семьдесят, со свистом,
Россия обтекала наш «Москвич».
Россия что-то высказать хотела
и что-то понимала, как никто.
Она «Москвич» вжимала в свое тело
и втягивала в самое нутро.
И, видимо, с какою-то задумкой,
скрывающей до срока свою суть,
мне подсказала сразу же за Тулой
на Ясную Поляну повернуть.
И вот в усадьбу, дышащую ветхо,
вошли мы, дети атомного века,
спешащие, в нейлоновых п...
Дай, Пушкин, свою певучесть и свою способность, как бы шаля, жечь глаголом. Дай, Лермонтов, свой желчный взгляд. Дай, Некрасов, боль твоей иссечённой музы, дай силу твоей неизящности. Дай, Блок, свою вещую туманность. Дай, Пастернак, чтобы твоя свеча вовек горела во мне. Есенин, дай на счастье нежность мне. Дай, Маяковский, грозную непримиримость, чтобы и я, прорубаясь сквозь время, смог сказать о нем товарищам-потомкам.
Пролог
Мне за тридцать. По ночам я плачу о том, что по мелочам растратил жизнь. У всех у нас одна болезнь души - поверхностность. Мы на все даём полуответы, а силы угасают...
Вместе с Галей мы осенью ехали по России к морю и за Тулой повернули на Ясную Поляну. Там мы поняли, что гениальность - это связь высоты с глубиной. Три гениальных человека заново родили Россию и не раз ещё родят ее: Пушкин, Толстой и Ленин.
Мы снова ехали, ночевали в машине, и я думал о том, что в цепи великих прозрений, быть может, недостаёт всего лишь звена. Ну, что же - наш черед.
Монолог египетской пирамиды
Я умоляю: люди, украдите мою память! Я вижу, что все в мире не ново, все точь-в-точь повторяет Древний Египет. Та же подлость, те же тюрьмы, то же угнетение, те же воры, сплетники, торгаши...
А что за лик у нового сфинкса под названием Россия? Вижу крестьян,рабочих, есть и писцы - их очень много. А это, никак, пирамида?
Я, пирамида, кое-что тебе расскажу. Я видала рабов: они работали, потом восставали, потом их смиряли... Какой из этого толк? Рабство не уничтожено: по-прежнему существует рабство предрассудков, денег, вещей. Никакого прогресса нет. Человек - раб по природе и не изменится никогда.
Монолог Братской ГЭС
Терпенье России - это мужество пророка. Она терпела - а потом взрывалась. Вот я ковшом экскаватора поднимаю к тебе Москву. Смотри - там что-то случилось.
Казнь Стеньки Разина
Все жители города - и вор, и царь, и боярыня с боярчонком, и купец, и скоморохи - спешат на казнь Стеньки Разина. Стенька едет на телеге и думает о том, что хотел народу добра, но что-то его подвело, может, малограмотность?
Палач поднимает голубой, как Волга, топор, и Стенька видит в его лезвии, как у безликой толпы прорастают ЛИЦА. Его голова катится, прохрипев «Не зазря...», и смеётся над царём.
Братская ГЭС продолжает
А теперь, пирамида, я покажу тебе кое-что еще.
Декабристы
Они были ещё мальчишками, но звон шпор не заглушал для них чьи-то стоны. И мальчики гневно нашаривали шпаги. Сущность патриота - восстать во имя вольности.
Петрашевцы
На Семеновском плацу пахнет Сенатской площадью: казнят петрашевцев. Надвигают на глаза капюшоны. Но один из казнимых сквозь капюшон видит всю Россию: как буйствует по ней Рогожин, мечется Мышкин, бредёт Алеша Карамазов. А вот палачи ничего подобного не видят.
Чернышевский
Когда Чернышевский встал у позорного столба, ему с эшафота была видна вся Россия, как огромное «Что делать?». Чья-то хрупкая рука бросила ему из толпы цветок. И он подумал: настанет срок, и эта же рука бросит бомбу.
Ярмарка в Симбирске
В руках приказчиков мелькают товары, пристав наблюдает за порядком. Икая, катит икорный бог. А баба продала свою картошку, хватила первача и упала, пьяная, в грязь. Все смеются, тычут в неё пальцами, но какой-то яснолобый гимназист поднял её и повёл.
Россия - не пьяная баба, она родилась не для рабства, и её не втопчут в грязь.
Братская ГЭС обращается к пирамиде
Первоосновой революций является доброта. В Зимнем ещё пирует Временное правительство. Но вот уже разворачивается «Аврора», вот взят дворец. Всмотрись в историю - там Ленин!
Пирамида отвечает, что Ленин идеалист. Не обманывает только цинизм. Люди - рабы. Это азбучно.
Но Братская ГЭС отвечает, что покажет другую азбуку - азбуку революции. Вот учительница Элькина на фронте в девятнадцатом учит красноармейцев грамоте. Вот сирота Сонька, сбежав от кулака Зыбкова, приходит на Магнитку и становится красным землекопом. У неё латаный ватник, драные опорки, но вдвоём со своим любимым Петькой они кладут
Бетон социализма
Братская ГЭС ревёт над вечностью: «Никогда коммунисты не будут рабами!» И, задумавшись, египетская пирамида исчезает.
Первый эшелон
Ах, магистраль-транссибирочка! Помнишь, как летели по тебе вагоны с решётками? Было много страшного, но не тужи об этом. Теперь вот на вагонах надпись: «Едет Братская ГЭС!» Едет девчонка со Сретенки: в первый год её косички будут примерзать к раскладушке, но она выстоит, как все.
Встанет Братская ГЭС, и Алеша Марчук будет в Нью-Йорке отвечать на вопросы о ней.
Жарки
Идёт бабушка по тайге, а в руках у неё цветы. Раньше в этом лагере жили заключённые, а теперь - строители плотины. Окрестные жители несут им кто простыни, кто шанежки. А вот бабка несёт букет, плачет, крестит экскаваторы и строителей...
Нюшка
Я бетоншица, Нюшка Буртова. Меня растила и воспитывала деревня Великая Грязь, потому что я осталась круглой сиротой, потом я была домработницей, работала посудомойкой. Окружающие лгали, крали, но, работая в вагоне-ресторане, я узнавала настоящую Россию... Наконец я попала на строительство Братской ГЭС. Стала бетонщицей, получила общественный вес. Влюбилась в одного гордого москвича. Когда во мне проснулась новая жизнь, тот москвич не признал отцовства. Покончить с собой мне не дала недостроенная плотина. Родился сынок Трофим и стал стройкиным сыном, как я была деревниной дочкой. Мы вдвоём с ним были на открытии плотины. Так что пусть помнят внуки, что свет им достался от Ильича и немножко от меня.
Большевик
Я инженер-гидростроитель Карцев. Когда я был молод, я бредил мировым пожаром и рубал врагов коммуны. Потом пошёл на рабфак. Строил плотину в Узбекистане. И не мог понять, что происходит. У страны как будто было две жизни. В одной - Магнитка, Чкалов, в другой - аресты. Меня арестовали в Ташкенте, и, когда пытали, я хрипел: «Я большевик!» Оставаясь «врагом народа», я строил ГЭС на Кавказе и на Волге, и наконец XX съезд вернул мне партбилет. Тогда я, большевик, поехал строить ГЭС в Братске. Нашей молодой смене скажу: в коммуне места нет для подлецов.
Тени наших любимых
В Элладе был обычай: начиная строить дом, первый камень клали в тень любимой женщины. Я не знаю, в чью тень был положен первый камень в Братске, но когда всматриваюсь в плотину, вижу в ней тени ваших, строители, любимых. И я положил первую строчку этой поэмы в тень моей любимой, словно в тень совести.
Маяковский
Встав у подножия Братской ГЭС, я сразу подумал о Маяковском: он будто воскрес в её облике. Он как плотина стоит поперёк неправды и учит нас стоять за дело революции.
Ночь поэзии
На Братском море мы читали стихи, пели песню о комиссарах. И передо мной встали комиссары. И я слышал, как в осмысленном величии ГЭС гремит над ложным величием пирамид. В Братской ГЭС мне раскрылся материнский образ России. На земле ещё немало рабов, но если любовь борется, а не созерцает, то ненависть бессильна. Нет судьбы чище и возвышенней - отдать всю жизнь за то, чтоб все люди на земле могли сказать: «Мы не рабы».
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)
Евгений Евтушенко
БРАТСКАЯ ГЭС
Поэма
МОЛИТВА ПЕРЕД ПОЭМОЙ
Поэт в России – больше чем поэт.
В ней суждено поэтами рождаться
лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства,
кому уюта нет, покоя нет.Поэт в ней – образ века своего
и будущего призрачный прообраз.
Поэт подводит, не впадая в робость,
итог всему, что было до него.Сумею ли? Культуры не хватает...
Нахватанность пророчеств не сулит...
Но дух России надо мной витает
и дерзновенно пробовать велит.И, на колени тихо становясь,
готовый и для смерти и победы,
прошу смиренно помощи у вас,
великие российские поэты...Дай, Пушкин, мне свою певучесть,
свою раскованную речь,
свою пленительную участь -
как бы шаля, глаголом жечь.Дай, Лермонтов, свой желчный взгляд,
своей презрительности яд
и келью замкнутой души,
где дышит, скрытая в тиши,
недоброты твоей сестра -
лампада тайного добра.Дай, Некрасов, уняв мою резвость,
боль иссеченной музы твоей -
у парадных подъездов, у рельсов
и в просторах лесов и полей.
Дай твоей неизящности силу.
Дай мне подвиг мучительный твой,
чтоб идти, волоча всю Россию,
как бурлаки идут бечевой.О, дай мне, Блок, туманность вещую
и два кренящихся крыла,
чтобы, тая загадку вечную,
сквозь тело музыка текла.Дай, Пастернак, смещенье дней,
смущенье веток,
сращенье запахов, теней
с мученьем века,
чтоб слово, садом бормоча,
цвело и зрело,
чтобы вовек твоя свеча
во мне горела.Есенин, дай на счастье нежность мне
к березкам и лугам, к зверью и людям
и ко всему другому на земле,
что мы с тобой так беззащитно любимДай, Маяковский, мне
глыбастость,
буйство,
бас,
непримиримость грозную к подонкам,
чтоб смог и я,
сквозь время прорубаясь,
сказать о нем
товарищам потомкам.
ПРОЛОГ
За тридцать мне. Мне страшно по ночам.
Я простыню коленями горбачу,
лицо топлю в подушке, стыдно плачу,
что жизнь растратил я по мелочам,
а утром снова так же ее трачу.
Когда б вы знали, критики мои,
чья доброта безвинно под вопросом,
как ласковы разносные статьи
в сравненье с моим собственным разносом,
вам стало б легче, если в поздний час
несправедливо мучит совесть вас.
Перебирая все мои стихи,
я вижу: безрассудно разбазарясь,
понамарал я столько чепухи...
а не сожжешь: по свету разбежалась.
Соперники мои,
отбросим лесть
и ругани обманчивую честь.
Размыслим-ка над судьбами своими.
У нас у всех одна и та же есть
болезнь души.
Поверхностность ей имя.
Поверхностность, ты хуже слепоты.
Ты можешь видеть, но не хочешь видеть.
Быть может, от безграмотности ты?
А может, от боязни корни выдрать
деревьев, под которыми росла,
не посадив на смену ни кола?!
И мы не потому ли так спешим,
снимая внешний слой лишь на полметра,
что, мужество забыв, себя страшим
самой задачей – вникнуть в суть предмета?
Спешим... Давая лишь полуответ,
поверхностность несем, как сокровенья,
не из расчета хладного, – нет, нет! -
а из инстинкта самосохраненья.
Затем приходит угасанье сил
и неспособность на полет, на битвы,
и перьями домашних наших крыл
подушки подлецов уже набиты...
Метался я... Швыряло взад-вперед
меня от чьих-то всхлипов или стонов
то в надувную бесполезность од,
то в ложную полезность фельетонов.
Кого-то оттирал всю жизнь плечом,
а это был я сам. Я в страсти пылкой,
наивно топоча, сражался шпилькой,
где следовало действовать мечом.
Преступно инфантилен был мой пыл.
Безжалостности полной не хватало,
а значит, полной жалости...
Я был
как среднее из воска и металла
и этим свою молодость губил.
Пусть каждый входит в жизнь под сим обетом:
помочь тому, что долженствует цвесть,
и отомстить, не позабыв об этом,
всему тому, что заслужило месть!
Боязнью мести мы не отомстим.
Сама возможность мести убывает,
и самосохранения инстинкт
не сохраняет нас, а убивает.
Поверхностность – убийца, а не друг,
здоровьем притворившийся недуг,
опутавший сетями обольщений...
На частности разменивая дух,
мы в сторону бежим от обобщений.
Теряет силы шар земной в пустом,
оставив обобщенья на потом.
А может быть, его незащищенность
и есть людских судеб необобщенность
в прозренье века, четком и простом?!
...Я ехал по России вместе с Галей,
куда-то к морю в «Москвиче» спеша
от всех печалей...
Осень русских далей
пообок золотела все усталей,
листами под покрышками шурша,
и отдыхала за рулем душа.
Дыша степным, березовым, соснистым,
в меня швырнув немыслимый массив,
на скорости за семьдесят, со свистом,
Россия обтекала наш «Москвич».
Россия что-то высказать хотела
и что-то понимала, как никто.
Она «Москвич» вжимала в свое тело
и втягивала в самое нутро.
И, видимо, с какою-то задумкой,
скрывающей до срока свою суть,
мне подсказала сразу же за Тулой
на Ясную Поляну повернуть.
И вот в усадьбу, дышащую ветхо,
вошли мы, дети атомного века,
спешащие, в нейлоновых плащах,
и замерли, внезапно оплошав.
И, ходоков за правдою потомки,
мы ощутили вдруг в минуту ту
все те же, те же на плечах котомки
и тех же ног разбитых босоту.
Немому повинуясь повеленью,
закатом сквозь листву просквожены,
вступили мы в тенистую аллею
по имени «Аллея Тишины».
И эта золотая просквоженность,
не удаляясь от людских недоль,
снимала суету, как прокаженность,
и, не снимая, возвышала боль.
Боль, возвышаясь, делалась прекрасной,
в себе соединив покой и страсть,
и дух казался силою всевластной,
но возникал в душе вопрос бесстрастный -
и так ли уж всевластна эта власть?
Добились ли каких-то изменений
все те, кому от нас такой почет,
чей дух обширней наших измерений?
Добились?
Или все как встарь течет?
А между тем – усадьбы той хозяин,
невидимый, держал нас на виду
и чудился вокруг: то проскользая
седобородым облаком в пруду,
то слышался своей походкой крупной
в туманности дымящихся лощин,
то часть лица являл в коре огрублой,
изрезанной ущельями морщин.
Космато его брови прорастали
в дремучести бурьянной на лугу,
и корни на тропинках проступали,
как жилы на его могучем лбу.
И, не ветшая, – царственно древнея,
верша вершинным шумом колдовство,
вокруг вздымались мощные деревья,
как мысли неохватные его.
Они стремились в облака и недра,
шумели все грознее и грозней,
и корни их вершин росли из неба,
вглубь уходя вершинами корней...
Да, ввысь и вглубь – и лишь одновременно!
Да, гениальность – выси с глубью связь!..
Но сколькие живут все так же бренно,
в тени великих мыслей суетясь...
Так что ж, напрасно гениям горелось
во имя изменения людей?
И, может быть, идей неустарелость -
свидетельство бессилия идей?
Который год уже прошел, который,
а наша чистота, как во хмелю,
бросается Наташею Ростовой
к лжеопыту – повесе и вралю!
И вновь и вновь – Толстому в укоренье -
мы забываем, прячась от страстей,
что Вронский – он черствее, чем Каренин,
в мягкосердечной трусости своей.
А сам Толстой?
Собой же поколеблен,
он своему бессилью не пример, -
беспомощно метавшийся, как Левин,
в благонаивном тщанье перемен?..
Труд гениев порою их самих
пугает результатом подсомненным,
но обобщенья каждого из них,
как в битве, – сантиметр за сантиметром.
Три величайших имени России
пусть нас от опасений оградят.
Они Россию заново родили
и заново не раз ее родят.
Когда и безъязыко и незряче
она брела сквозь плети, батожье,
явился Пушкин просто и прозрачно,
как самоосознание ее.
Когда она усталыми глазами
искала своих горестей исток, -
как осмысленье зревшего сознанья,
пришел Толстой, жалеюще-жесток,
но – руки заложив за ремешок.
Ну, а когда ей был неясен выход,
а гнев необратимо вызревал, -
из вихря Ленин вырвался, как вывод,
и, чтоб ее спасти, ее взорвал!
Так думал я запутанно, пространно,
давно оставив Ясную Поляну
и сквозь Россию мчась на «Москвиче»
с любимой, тихо спящей на плече.
Сгущалась ночь, лишь слабо розовеясь
по краешку...
Летели в лоб огни.
Гармошки заливались.
Рыжий месяц
заваливался пьяно за плетни.
Свернув куда-то в сторону с шоссе,
затормозил я, разложил сиденья,
и мы поплыли с Галей в сновиденья
сквозь наважденья звезд – щека к щеке...
Мне снился мир
без немощных и жирных,
без долларов, червонцев и песет,
где нет границ, где нет правительств лживых,
ракет и дурно пахнущих газет.
Мне снился мир, где все так первозданно
топорщится черемухой в росе,
набитой соловьями и дроздами,
где все народы в братстве и родстве,
где нет ни клеветы, ни поруганий,
где воздух чист, как утром на реке,
где мы живем, навек бессмертны,
с Галей,
как видим этот сон – щека к щеке...
Но пробудились мы...
«Москвич» наш дерзко
стоял на пашне, ткнувшийся в кусты.
Я распахнул продрогнувшую дверцу,
и захватило дух от красоты.
Над яростной зарею, красной, грубой,
с цигаркой, сжатой яростно во рту,
вел самосвал парнишка стальнозубый,
вел яростно на яростном ветру.
И яростно, как пламенное сопло,
над чернью пашен, зеленью лугов
само себя выталкивало солнце
из яростно вцепившихся стогов.
И облетали яростно деревья,
и, яростно скача, рычал ручей,
и синева, алея и ярея,
качалась очумело от грачей.
Хотелось так же яростно ворваться,
как в ярость, в жизнь, раскрывши ярость крыл...
Мир был прекрасен. Надо было драться
за то, чтоб он еще прекрасней был!
И снова я вбирал, припав к баранке,
в глаза неутолимые мои
Дворцы культуры.
Чайные.
Бараки.
Райкомы.
Церкви.
И посты ГАИ.
Заводы.
Избы.
Лозунги.
Березки.
Треск реактивный в небе.
Тряск возков.
Глушилки.
Статуэтки-переростки
доярок, пионеров, горняков.
Глаза старух, глядящие иконно.
Задастость баб.
Детишек ералаш.
Протезы.
Нефтевышки.
Терриконы,
как груди возлежащих великанш.
Мужчины трактора вели. Пилили.
Шли к проходной, спеша потом к станку.
Проваливались в шахты. Пиво пили,
располагая соль по ободку.
А женщины кухарили. Стирали.
Латали, успевая все в момент.
Малярили. В очередях стояли.
Долбили землю. Волокли цемент.
Смеркалось вновь.
«Москвич» был весь росистый.
и ночь была звездами всклень полна,
а Галя доставала наш транзистор,
антенну выставляя из окна.
Антенна упиралась в мирозданье.
Шипел транзистор в Галиных руках.
Оттуда,
не стыдясь перед звездами,
шла бодро ложь на стольких языках!
О, шар земной, не лги и не играй!
Ты сам страдаешь – больше лжи не надо!
Я с радостью отдам загробный рай,
чтоб на земле поменьше было ада!
Машина по ухабам бултыхалась.
(Дорожники, ну что ж вы, стервецы!)
Могло казаться, что вокруг был хаос,
но были в нем «начала» и «концы».
Была Россия -
первая любовь
грядущего...
И в ней, вовек нетленно,
запенивался Пушкин где-то вновь,
загустевал Толстой, рождался Ленин.
И, глядя в ночь звездастую, вперед,
я думал, что в спасительные звенья
связуются великие прозренья
и, может, лишь звена недостает...
Ну что же, мы живые.
Наш черед.
МОНОЛОГ ЕГИПЕТСКОЙ ПИРАМИДЫ
Я -
египетская пирамида.
Я легендами перевита.
И писаки
меня
разглядывают,
и музеи
меня
раскрадывают,
и ученые возятся с лупами,
пыль пинцетами робко сколупывая,
и туристы,
потея,
теснятся,
чтоб на фоне бессмертия сняться.
Отчего же пословицу древнюю
повторяют феллахи и птицы,
что боятся все люди
времени,
а оно -
пирамид боится!
Люди, страх вековой укротите!
Стану доброй,
только молю:
украдите,
украдите,
украдите память мою!
Я вбираю в молчанье суровом
всю взрывную силу веков.
Кораблем космическим
с ревом
отрываюсь
я
от песков.
Я плыву марсианским таинством
над землей,
над людьми-букашками,
лишь какой-то туристик болтается,
за меня зацепившись подтяжками.
Вижу я сквозь нейлонно-неоновое:
государства лишь внешне новы.
Все до ужаса в мире не новое -
тот же древний Египет -
увы!
Та же подлость в ее оголтении.
Те же тюрьмы -
только модерные.
То же самое угнетение,
только более лицемерное.
Те же воры,
жадюги,
сплетники,
торгаши...
Переделать их!
Дудки!
Пирамиды недаром скептики.
Пирамиды -
они не дуры.
Облака я углами раздвину
и прорежусь,
как призрак, из них.
Ну-ка, сфинкс под названием Россия,
покажи свой таинственный лик!
Вновь знакомое вижу воочию -
лишь сугробы вместо песков.
Есть крестьяне,
и есть рабочие,
и писцы -
очень много писцов.
Есть чиновники,
есть и армия.
Есть, наверное,
свой фараон.
Вижу знамя какое-то...
Алое!
А, -
я столько знавала знамен!
Вижу,
здания новые грудятся,
вижу,
горы встают на дыбы.
Вижу,
трудятся...
Невидаль – трудятся!
Раньше тоже трудились рабы...
Слышу я -
шумит первобытно
их
тайгой называемый лес.
Вижу что-то...
Никак, пирамида!
«Эй, ты кто?»
«Я – Братская ГЭС».
«А, слыхала:
ты первая в мире
и по мощности,
и т.п.
Ты послушай меня,
пирамиду.
Кое-что расскажу я тебе.
Я, египетская пирамида,
как сестре, тебе душу открою.
Я дождями песка перемыта,
но еще не отмыта от крови.
Я бессмертна,
но в мыслях безверье,
и внутри все кричит и рыдает.
Проклинаю любое бессмертье,
если смерти -
его фундамент!
Помню я,
как рабы со стонами
волокли под плетями и палками,
поднатужась,
глыбу стотонную
по песку
на полозьях пальмовых.
Встала глыба...
Но в поисках выхода
им велели без всякой запинки
для полозьев ложбинки выкопать
и ложиться в эти ложбинки.
И ложились рабы в покорности
под полозья:
так бог захотел...
Сразу двинулась глыба по скользкости
их раздавливаемых тел.
Жрец являлся...
С ухмылкой пакостной
озирая рабов труды,
волосок, умащеньями пахнущий,
он выдергивал из бороды.
Самолично он плетью сек
и визжал:
«Переделывать, гниды!» -
если вдруг проходил волосок
между глыбами пирамиды.
И -
наискосок
в лоб или висок:
«Отдохнуть часок?
Хлеба хоть кусок?
Жрите песок!
Пейте сучий сок!
Чтоб – ни волосок!
Чтоб – ни волосок!»
А надсмотрщики жрали,
толстели
и плетьми свою песню свистели.
ПЕСНЯ НАДСМОТРЩИКОВ
Мы надсмотрщики,
мы -
твои ножки,
трон.
При виде нас
морщится
брезгливо
фараон.
А что он без нас?
Без наших глаз?
Без наших глоток?
Без наших плеток?
Плетка -
лекарство,
хотя она не мед.
Основа государства -
надсмотр,
надсмотр.
Народ без назидания
работать бы не смог.
Основа созидания -
надсмотр,
надсмотр.
И воины, раскиснув,
бежали бы, как сброд.
Основа героизма -
надсмотр,
надсмотр.
Опасны,
кто задумчивы.
Всех мыслящих -
к закланью.
Надсмотр за душами
важней,
чем над телами.
Вы что-то загалдели?
Вы снова за нытье?
Свободы захотели?
А разве нет ее?
(И звучат не слишком бодро
голоса:
«Есть!
Есть!» -
то ли есть у них свобода,
то ли хочется им есть!)
Мы -
надсмотрщики.
Мы гуманно грубые.
Мы вас бьем не до смерти,
для вашей пользы, глупые.
Плетками
по черным
спинам
рубя,
внушаем:
«Почетна
работа
раба».
Что о свободе грезить?
Имеете вы, дурни,
свободу -
сколько влезет
молчать,
о чем вы думаете.
Мы – надсмотрщики.
С нас тоже
пот ручьем.
Рабы,
вы нас не можете
упрекнуть
ни в чем.
Мы смотрим настороженно.
Мы псы -
лишь без намордников.
Но ведь и мы,
надсмотрщики, -
рабы других надсмотрщиков.
А над рабами стонущими, -
раб Амона он -
надсмотрщик всех надсмотрщиков,
наш бедный фараон.
Но за рабство рабы не признательны.
Несознательны рабы,
несознательны.
Им не жалко надсмотрщиков,
рабам,
им не жалко фараона,
рабам, -
на себя не хватает жалости.
И проходит стон по рядам,
стон усталости.
ПЕСНЯ РАБОВ
Мы рабы... Мы рабы... Мы рабы...
Как земля, наши руки грубы.
Наши хижины – наши гробы.
Наши спины тверды, как горбы.
Мы животные. Мы для косьбы,
молотьбы, а еще городьбы
пирамид, – возвеличить дабы
фараонов надменные лбы.
Вы смеетесь во время гульбы
среди женщин, вина, похвальбы,
ну а раб – он таскает столбы
и камней пирамидных кубы.
Неужели нет сил для борьбы,
чтоб когда-нибудь встать на дыбы?
Неужели в глазах голытьбы -
предначертанность вечной судьбы
повторять: «Мы рабы... Мы рабы...»?
П и р а м и д а п р о д о л ж а е т:
А потом рабы восставали,
фараонам за все воздавали,
их швыряли под ноги толп...
А какой из этого толк?
Я,
египетская пирамида,
говорю тебе,
Братская ГЭС:
столько в бунтах рабов перебито,
но не вижу я что-то чудес.
Говорят,
уничтожено рабство...
Не согласна:
еще мощней
рабство
всех предрассудков классовых,
рабство денег,
рабство вещей.
Да,
цепей старомодных нет,
но другие на людях цепи -
цепи лживой политики,
церкви
и бумажные цепи газет.
Вот живет человечек маленький.
Скажем, клерк.
Собирает он марки.
Он имеет свой домик в рассрочку.
Он имеет жену и дочку.
Он в постели начальство поносит,
ну а утром доклады подносит
изгибаясь, кивает:
«Йес...»
Он свободен,
Братская ГЭС!
Ты жестоко его не суди.
Бедный малый,
он раб семьи.
Ну а вот
в президентском кресле
человечек другой,
и если,
предположим, он даже не сволочь,
что он сделать хорошего сможет?
Ведь, как трон фараона,
без новшеств
кресло -
в рабстве у собственных ножек.
Ну а ножки -
те, кто поддерживают
и когда им надо,
придерживают.
Президенту надоедает,
что над ним
чье-то «надо!» витает,
но бороться поздно:
в их лести
кулаки увязают,
как в тесте.
Президент сопит обессиленно:
«Ну их к черту!
Все опостылело...»
Гаснут в нем благородные страсти...
Кто он?
Раб своей собственной власти.
Ты подумай,
Братская ГЭС,
в скольких людях -
забитость,
запуганность.
Люди,
где ваш хваленый прогресс?
Люди,
люди,
как вы запутались!
Наблюдаю гранями строгими
и потрескавшимися сфинксами
за великими вашими стройками,
за великими вашими свинствами.
Вижу:
дух человеческий слаб.
В человеке
нельзя
не извериться.
Человек -
по природе раб.
Человек
никогда не изменится.
Нет,
отказываюсь наотрез
ждать чего-то...
Прямо,
открыто
говорю это,
Братская ГЭС,
я, египетская пирамида.
МОНОЛОГ БРАТСКОЙ ГЭС
Пирамида,
я дочь России,
непонятной тебе земли.
Ее с детства плетьми крестили,
на клочки разрывали,
жгли.
Ее душу топтали, топтали,
нанося за ударом удар,
печенеги,
варяги,
татары
и свои -
пострашнее татар.
И лоснились у воронов перья,
над костьми вырастало былье,
и сложилось на свете поверье
о великом терпенье ее.
Прославлено терпение России.
Оно до героизма доросло.
Ее, как глину, на крови месили,
ну, а она терпела, да и все.
И бурлаку, с плечом, протертым лямкой,
и пахарю, упавшему в степи,
она шептала с материнской лаской
извечное: «Терпи, сынок, терпи...»
Могу понять, как столько лет Россия
терпела голода и холода,
и войн жестоких муки нелюдские,
и тяжесть непосильного труда,
и дармоедов, лживых до предела,
и разное обманное вранье,
но не могу осмыслить: как терпела
она само терпение свое?!
Есть немощное, жалкое терпенье.
В нем полная забитость естества,
в нем рабская покорность, отупенье...
России суть совсем не такова.
Ее терпенье – мужество пророка,
который умудренно терпелив.
Она терпела все...
Но лишь до срока,
как мина.
А потом
случался
взрыв!
П р е р в а л а п и р а м и д а:
Я против
всяких взрывов...
Навиделась я!
Колют,
рубят,
а много ли проку?
Только кровь проливается зря!
Б р а т с к а я Г ЭС п р о д о л ж а е т:
Зря?
Зову я на память прошлое,
про себя повторяя вновь
строки вещие:
"...Дело прочно,
когда под ним струится кровь».
И над кранами,
эстакадами,
пирамида,
к тебе сквозь мошку
поднимаю ковшом экскаватора
в кабаках и боярах Москву.
Погляди-ка:
в ковше над зубьями
золотые
торчат купола.
Что случилось там?
Что насупленно
раззвонились колокола?
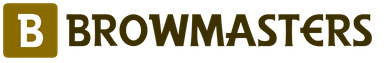

 Сабельный удар святослава по хазарскому "чуду-юду"
Сабельный удар святослава по хазарскому "чуду-юду" Были ли князья Аскольд и Дир иудеями?
Были ли князья Аскольд и Дир иудеями? Самые известные русские в мире
Самые известные русские в мире Протопоп Аввакум: главный идеолог старообрядчества Аввакум когда действовал кто такой
Протопоп Аввакум: главный идеолог старообрядчества Аввакум когда действовал кто такой